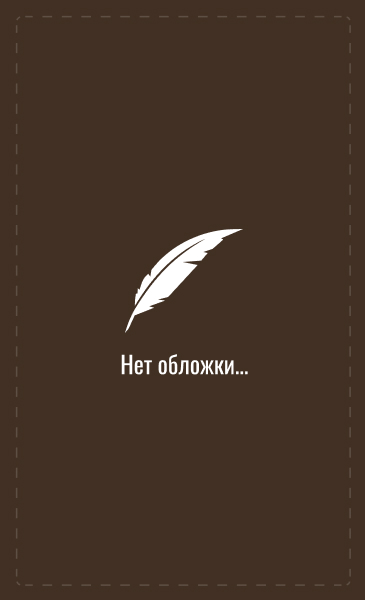
Метки
Описание
Хотите понять, как улучшить свои навыки писательства? С помощью этого сборника мы разберёмся в основных писательских моментах, применяя теорию литературы и собирая самую актуальную информацию из источников для авторов и редакторов.
Примечания
07.05.25 — 3 место в топе по фандому 😮
07.05.25 — 3 место в общем топе статей 🫣
Теперь о литературе можно почитать и в тг 👇🏻 Там посты короче, но чаще.
Под лампой темно: https://t.me/dark_sunny_bunny
UPD: сборник находится в доработке.
Автор, повествователь, рассказчик, фокальный персонаж
14 июля 2024, 11:14
Стоит речи зайти о повествовании, как в ход идут самые разные обозначения того, от имени кого мы видим движение истории: автор, повествователь, рассказчик, персонаж, фокал. Однако всё это — не синонимы, но, безусловно, очень похожие по смыслу понятия.
В отличие от всего остального, автор является реально существующей фигурой, продумывающей историю. Именно он функционально разрабатывает сюжет, систему персонажей, строит композицию. Может напрямую включаться в текст произведения или передавать историю опосредованно — через образы, имеющие разные функции. Когда автор напрямую включается в текст, он ведёт повествование от первого лица. Наиболее полно автор проявляется в таких жанрах, как автобиография, исповедь, записки, письма, дневниковые записи и подобное. Зачастую автор даёт прямую оценку тем или иным действиям, обращается к читателю в ходе повествования, рассказывает о самом себе, как это, например, делает А.С. Пушкин в «Евгении Онегине»:
С героем моего романа (акцент на жанре)
Без предисловий, сей же час
Позвольте познакомить вас: (создание эффекта реальности происходящего)
Онегин, добрый мой приятель, (создание эффекта реальности происходящего, объяснение, почему повествование ведёт автор, а не Онегин)
Родился на брегах Невы,
Где, может быть, родились вы (эффект сближения читателя и персонажа)
Или блистали, мой читатель; (прямое обращение к читателю)
Там некогда гулял и я:
Но вреден север для меня (выражение личного отношения).
Но чаще автор выражается в произведении опосредованно. Основные формы его присутствия — повествователь и рассказчик. Граница между этими понятиями весьма размыта, но всё же.
Повествователь — это автор, воплощённый в образе персонажа. Этот образ может быть похож на реального автора или быть ему противоположным, его задача — не отразить реальную личность автора, а быть его проводником в ходе повествования, его художественными устами. Повествователь не находится напрямую в художественной действительности, но описывает её со стороны: то есть как бы находится «над» всем происходящим, наблюдает со стороны и потому может рассказать обо всём вокруг и даже о том, что пока неизвестно самим персонажам. Поэтому повествование он ведёт от третьего лица, может анализировать действия, высказывать предположения.
Так, повествователь присутствует в романе Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание»: «В начале июля, в чрезвычайно жаркое время, под вечер, один молодой человек вышел из своей каморки, которую нанимал от жильцов в С-м переулке, на улицу и медленно, как бы в нерешимости, отправился к К-ну мосту». Нас, читателей, погружают в начало: кто куда, когда и зачем действовал (типичная формула начальной фразы, притом более распространённая в лидах журналистских текстов). И хотя в романе есть центральный персонаж — Родион Раскольников, за которым мы и наблюдаем всё время, над ним нависает тот самый пресловутый автор-повествователь, который знает о нём всё и может рассказать независимо, опосредованно: об этом нам говорит и некоторая протокольность фразы (её связь с журналистской формулой текста), и введение персонажа в текст — «один молодой человек», «которую он нанимал <…>».
Рассказчик — это персонаж, который становится этаким рупором для автора. Основное его отличие от повествователя заключается в том, что в тексте рассказчик не обладает всесильностью и изображает то, что видит сам, передаёт мысли, соответствующие его образу мышления и жизни, — то есть его рассказ субъективен. Рассказчик — не наблюдатель, а полноценный участник действия, находится в гуще событий, совершает поступки, взаимодействует с другими персонажами. Он может повествовать как от своего имени (от первого лица), так и опосредованно (от третьего лица). Таких рассказчиков в тексте может быть один или несколько: например, в «Анне Карениной» Л.Н. Толстого — несколько (Степан Аркадьич, Анна и т.д.), а в «Повестях Белкина» А.С. Пушкина — один, притом псевдореальный (сам Иван Белкин).
На основе этих понятий сформированы такие тропы, как ненадёжный рассказчик, всезнающий рассказчик, имеющиеся в списке меток на данном сайте.
Ненадёжный рассказчик — тип рассказчика, при котором повествование ведётся субъективно, однако восприятие персонажа может быть неверным. Он может заблуждаться, не так понять, переиначить происходящие события или намеренно обвести вокруг пальца наблюдателя (читателя) или себя (то есть заняться самообманом). Таковы «Звук и ярость» У. Фолкнера, «Грозовой перевал» Э. Бронте, «Великий Гэтсби» Ф. Фицджеральда, «Бойцовский клуб» Ч. Паланика, «Коллекционер» Д. Фаулза и многие другие.
Всезнающий рассказчик — тип рассказчика, почти стирающий грани с повествователем. Чаще всего такой тип можно встретить в русской классике XIX века.
Рассказывая любую историю, автор отражает какую-либо идею и зачастую имеет мнение о том или ином предмете разговора, что формирует понятие авторской позиции. Авторская позиция — это отношение автора к тому, что он описывает в произведении. Она может быть выражена открыто (прямо) или косвенно (неявно) и касаться как общей идеи произведения, так и отдельных его мыслей, элементов, персонажей. Привет зумерам, научившимся для экзаменов выделять авторскую позицию где угодно.
Открыто выраженная авторская позиция относительно идеи:
«Теперь я знаю, как трудна жизнь коростеля, как далеко ему добираться к нам, чтобы известить Россию о зачавшемся лете». — «Но я живу далеко во Франции. Много уже лет живу и всякого навидался. Был на войне, в людей стрелял, и они в меня стреляли. Но отчего же, почему же, как заслышу я скрип коростеля за речкой, дрогнет моё сердце и снова навалится на меня одно застарелое мучение: зачем я убил коростеля? Зачем?» (В. Астафьев «Зачем я убил коростеля?»).
Открыто выраженная авторская позиция относительно персонажа (жирным шрифтом выделена авторская оценка):
«Цвет лица у Ильи Ильича был ни румяный, ни смуглый, ни положительно бледный, а безразличный или казался таким, может быть, потому, что Обломов как-то обрюзг не по летам: от недостатка ли движения или воздуха, а может, того и другого. Вообще же тело его, судя по матовому, чересчур белому свету шеи, маленьких пухлых рук, мягких плеч, казалось слишком изнеженным для мужчины» (И.А. Гончаров «Обломов»).
Неявная авторская позиция может быть выражена через позицию персонажей или общие рассуждения, к которым в ходе чтения текста должен прийти читатель. Её заметить сложнее, но тем она ценнее, что не способна навязать читателю определённую идею — до неё необходимо дойти самостоятельно. Например:
«Среди людей часто попадаются храбрецы. Но только сознательная и страстная любовь к Родине может сделать из храбреца героя. Ковалёв был истинный герой». «Впрочем, может быть, Ковалёв был прав: каждый человек хорош на своём месте». (В. Катаев «Сын полка»).
На понятии рассказчика зиждется ещё одно не менее важное, но более современное — фокальный персонаж, или фокал. Фокальный персонаж — это персонаж, которого автор помещает в центр повествования. Именно с его позиции мы и наблюдаем всю историю, смотрим его глазами, слышим его ушами, думаем его головой (и своей тоже — но это вопрос другой), чувствуем его эмоции, переживания и сочувствуем ему. При этом мы не можем увидеть и услышать то, чего не видит фокальный персонаж, и знать то, чего ему самому по сюжету знать ещё невозможно. Но в многоплановом произведении автор, как правило, не зацикливается лишь на одной фигуре, меняя планы и повествования — а соответственно и персонажей, через призму восприятия которых мы и наблюдаем художественный мир произведения. Именно в этой многоплановости зачастую и кроются ошибки, которые в действительности снижают эффективность текста: невозможность сопереживать герою, проживать сюжет вместе с ним = абстрагированность, неверие в происходящее.
При работе с фокальным персонажем важно помнить главную формулу: один эпизод — один фокал (фокус). Чаще всего один эпизод равен одной главе.
Что это означает? Что, повествуя с позиции (фокуса) одного персонажа, автор не может заглянуть в голову другого в этой же сцене и «скакать по головам», меняя фокалов. И не может охватить всё и сразу, ведь фокальный персонаж не всеведущ. Иными словами, я, включаясь в роль девушки Кати в сцене поцелуя, следуя за ней, не могу показать, как она выглядит со стороны парня Вити, собирающегося её поцеловать, не могу рассказать, что чувствует сейчас Витя. И абсолютно точно не могу обругать вертихвостку Катю от имени мамы Вити, сидящей в этот момент дома, — если только Катя сама не предположит, не представит эту сцену, и то это будет ее восприятие, но никак не реальность.
Однако фокальный персонаж (фокус) как форма повествования в третьем лице от имени конкретного персонажа представляется в ру-сегменте сетевой литературы. В англо-сегменте же фокал — это персонаж, чья проблема на данный момент важнее. То есть это не тот, от имени которого мы пишем и читаем, а тот, за которым наблюдаем. Фокальный персонаж при этом может быть не центром повествования, но он обязательно в фокусе внимания.
Ещё одна распространённая ошибка, связанная со стилистикой повествования, — это обозначения фокального персонажа в повествовании от третьего лица. В школе нас учили, что необходимо всеми силами избегать лексических повторов, а потому мы придумывали 100500 синонимов, чтобы ни в коем случае рядом не оказались два одинаковых или даже однокоренных слова. Безусловно, лексические повторы — это плохо, и с ними тоже нужно уметь работать, однако из-за этой привычки повсюду их заменять появляется новая ошибка — злоупотребление заместительными синонимами. Заместительные синонимы — это слова, которые замещают другое (основное) по тексту, обозначая человека по косвенным признакам (пол, возраст, профессия, цвет волос, глаз, рост, фигура и т.д.). Ну те самые внезапно появляющиеся в тексте бесконечные мужчины, врачи, голубоглазые брюнеты, высокие, худощавые и прочие прелести.
Почему же зачастую желание избежать повтора превращается в фатальную ошибку с заместительными синонимами? В первую очередь нас как читателей знакомят именно с фокальным персонажем и далее мы следуем за ним словно призраки, вживаемся в его роль. Вы же близкого друга не будете постоянно обозначать «девушкой»/«парнем» при общении? А себя? Именно в этом и заключается абсурдность использования: никто из нас не будет себя или хорошо знакомых людей упоминать для других ни по полу, ни по цвету волос и глаз и т.д. Для этого есть имя, местоимение, максимум — фамилия. Именно с этими категориями синонимов и необходимо учиться работать. А там, где невозможно подобрать синоним, всегда можно попробовать изменить саму структуру предложения.
Но это лишь один аспект! Заместительные синонимы используются не только для обозначения фокального персонажа, но и всех второстепенных. Что, если персонажей в сцене несколько, и всех необходимо как-то обозначать? Если перемешивать всех, используя весь арсенал синонимов, нетрудно запутать читателя — и тогда уже не поймёшь, какого блондина имеет в виду автор и сколько мужчин и женщин бегает по воображаемой сцене из текста. Необходимо определиться заранее, как уместнее всего обозначать того или иного персонажа — чаще всего это по близости к центральному персонажу или функции, роли персонажа в сюжете. Например, подружку вышеупомянутой Кати Лизу неуместно называть девушкой, потому что «подружка» — личное, эмоционально окрашенное слово, а вот «девушка» — обезличенное, нейтральное; но если Витя вдруг решит помереть от аллергии, потому что его укусила пчела на свидании, а Лиза врач, — врач Лиза помчится на спасение Вити, потому что это прямое указание на её задачу в сюжете. А вот мимо проходящая девушка, совсем не знакомая ни Кате, ни Вите, но решившаяся помочь, вполне может обозначиться как «девушка» — это не только не близкий, но и вообще не знакомый человек. Для еще не знакомых или эпизодических, личные отношения с которыми неважны по ходу повествования, появляющихся пару раз, как раз уместны нейтральные и максимально обобщенные синонимы типа девушки и голубоглазого брюнета.
Кстати, на досуге советую обратить внимание на то, что во всём тексте этой главы упоминается только слово «персонаж» и ни одного — «герой». Во всём виновата та же благородная школьная практика, разрешающая использовать их как синонимы. Технически — верно, слово «герой», согласно Толковому словарю С. Ожегова, имеет значение «главное действующее лицо литературного произведения», но оно переносное — т. е. создано на основе прямого значения. А прямое в нём связано с подвигами и храбростью. Что в литературе можно сказать только о положительных персонажах — да и то не о всех можно так высоко отозваться; помним также про существование отрицательных персонажей и антигероев — то есть таких персонажей, которых нельзя однозначно причислить к добру или злу. Поэтому современное литературоведение обозначает всех нейтрально — персонаж.
Что еще можно почитать


Пока нет отзывов.